Ключ привычно скользнул в замочную скважину. Легкий щелчок — и дверь поддалась, впуская Ольгу в тишину и полумрак знакомой прихожей. Пахло мамиными духами — «Красной Москвой», чуть горьковато, но так уютно — и чем-то еще… Жареной картошкой? Странно. Мама, Антонина Петровна, обычно ужинала рано и просто — кефир, яблоко.
— Мам? Я дома! — голос Ольги прозвучал гулко в пустой квартире.
Ответа не последовало. Только из кухни доносились приглушенные звуки — негромкий мужской голос и тихое, почти виноватое бормотание матери.
Сердце неприятно екнуло. Мужской голос? Кто это мог быть? Сосед дядя Витя за солью зашел? Но голос был незнакомый, низкий, с какой-то… уверенной интонацией. А мама… мама говорила так, будто оправдывалась.
Ольга сняла туфли, стараясь ступать как можно тише. Необъяснимая тревога, липкая и холодная, начала подниматься откуда-то изнутри. Она медленно прошла по коридору, освещенному лишь тусклым светом из кухни. Дверь была приоткрыта.
За столом, спиной к Ольге, сидел мужчина. Немолодой, лет шестидесяти, седой, в простой клетчатой рубашке. Он ел. Ту самую жареную картошку, запах которой она уловила в прихожей. Перед ним стояла рюмка с чем-то прозрачным.
А мама… Мама стояла у плиты, спиной к нему, и что-то помешивала в кастрюльке. Она казалась… сжавшейся. Плечи опущены, движения суетливые, нервные.
— …говорю тебе, Тоня, зря ты так, — донесся голос мужчины. Он говорил с легким волжским говорком. — Девка-то взрослая. Право имеет знать. Сколько можно тайгу-то городить?
— Не надо, Гриша, — тихо ответила мама, не оборачиваясь. — Не сейчас. Оля устала после работы…
Ольга замерла на пороге. Гриша? Кто такой Гриша? И что она «имеет право знать»?
Мужчина, видимо, почувствовал ее присутствие. Он медленно повернул голову. Лицо у него было простое, обветренное, с глубокими морщинами у глаз. Глаза — светлые, цепкие — посмотрели на Ольгу без удивления. С каким-то странным… сочувствием?
— А вот и Оля, — сказал он спокойно, откладывая вилку. — Легка на помине. Проходи, дочка. Не стой в дверях.
«Дочка»? Он назвал ее «дочка»?
Мама резко обернулась. Увидев Ольгу, она всплеснула руками, лицо ее залила краска стыда и… страха?
— Оленька! Ты… ты рано сегодня! А мы тут… вот… Григорий зашел… Старый знакомый…
Ложь была такой явной, такой неумелой, что у Ольги перехватило дыхание. Вечером я вернулась с работы домой и увидела на кухне незнакомого мужчину с мамой. Не просто «знакомого». То, как он сидел за их столом, как мама перед ним заискивала, как он назвал ее «дочка» — все это кричало о чем-то большем. О чем-то, что от нее скрывали.
Ольга вошла на кухню. Ноги были ватными. Она остановилась у стола, глядя то на мать, то на этого… Григория.
— Мама, кто это?
— Оленька, ну я же говорю… — начала мама, но он ее перебил.
— Григорий Степанович, — он протянул ей большую, мозолистую руку. — Можно просто Гриша. Мы с Тоней… с мамой твоей… земляки. Давно не виделись. Вот, заехал проведать.
Ольга его руку проигнорировала.
— Заехал… проведать? И мама решила приготовить вам жареной картошки? В девять вечера?
Мама густо покраснела, опустив глаза. А Григорий усмехнулся.
— А что такого? Люблю я ее картошку. Вкусно готовит. Не то что некоторые… городские фифы.
Последние слова были произнесены с явным намеком. Он смотрел на Ольгу — на ее строгий офисный костюм, на укладку, на тонкие пальцы с маникюром. И в его взгляде читалось… осуждение? Презрение?
— Гриша! — шикнула на него мама.
— А что «Гриша»? — он повернулся к ней. — Правду говорю. Замучила ты себя, Тоня. Всю жизнь на нее одну пашешь. Все ей отдаешь. А она? Принцесса на горошине. Даже спасибо, небось, не скажет.
Холод сковал все тело. Что он несет? Какое «спасибо»? За что?
Ольга вспомнила всю свою жизнь. Да, мама работала много. Да, она растила ее одна — отец умер, когда Ольге было пять. Но разве Ольга была «принцессой»? Она хорошо училась. Поступила сама в университет. Работала с первого курса. Да, она добилась большего, чем мама — стала успешным юристом, купила себе квартиру. Но разве она не помогала? Не привозила продукты? Не оплачивала маме путевки в санаторий?
— Вы… вы что себе позволяете? — голос дрогнул от возмущения. — Вы кто такой, чтобы…
— А я тот, кто твою мать знает получше тебя, дочка, — он снова употребил это слово, и оно прозвучало как пощечина. — Я знаю, как она ночами не спала, когда ты болела. Я знаю, как она последнее отдавала, чтобы ты в своем институте училась. Я знаю, как она плакала, когда ты…
Он запнулся. Посмотрел на мать. Та отчаянно замахала на него руками.
— Когда я — что? — Ольга шагнула к нему. — Договаривайте!
Григорий вздохнул. Посмотрел на мать с укором. А потом — снова на Ольгу. И в его глазах была странная смесь жалости и… злости?
— Когда ты ей сказала, — произнес он медленно, чеканя каждое слово, — что тебе стыдно за нее. За ее старое пальто. За ее работу уборщицей. Что ты… стесняешься ее перед своими «богатыми» друзьями.
Мир рухнул.
Ольга смотрела на него, потом перевела взгляд на мать. Мама стояла, закрыв лицо руками, ее плечи сотрясались от беззвучных рыданий.
Этого… этого не было. Она никогда такого не говорила! Да, она… она, может быть, когда-то, в юности, по глупости, ляпнула что-то про пальто… Но чтобы «стыдно»? Чтобы «стеснялась»?
Это была ложь. Чудовищная, злая ложь.
Но почему мама плачет? Почему она не опровергает?
— Мама? — прошептала Ольга. — Мама, это… это неправда! Скажи ему!
Мама не ответила. Она только сильнее сжалась, сотрясаясь от рыданий.
И тут Ольга все поняла. Это была их правда. Его и ее. Правда, которую они создали? Или… правда, которую мама скрывала от Ольги все эти годы? Скрывала свою боль? Свою обиду? Свое… разочарование в дочери?
Его слова заставили меня плакать полночи. Нет, слез не было. Был только ледяной ужас. Ужас от того, что самый близкий человек, мама, жила все эти годы с этой болью. Считала, что дочь ее стыдится. И… молчала. А теперь этот… чужой мужчина… он пришел и вывалил все это. Зачем? Чтобы причинить боль? Чтобы… отомстить за нее? Или… чтобы их разлучить?
Кто он? Любовник? Старый друг? Или?..
Голова шла кругом. Ноги подкашивались. Ольга схватилась за край стола.
— Уходите, — прошептала она, глядя на Григория.
— Что?
— Уходите. Из нашего дома. Сейчас же.
Он усмехнулся.
— А то что? Мамочке пожалуешься? Которая всю жизнь…
— Вон!!! — крик вырвался сам собой. Пронзительный, отчаянный.
Григорий удивленно поднял брови. Посмотрел на плачущую мать. Потом снова на Ольгу. Медленно встал из-за стола. Взял свою старую кепку с подоконника.
— Ну-ну. Дело ваше. Разбирайтесь сами.
Он вышел, не прощаясь.
Ольга осталась одна. С рыдающей матерью. С этой страшной, уродливой правдой (или ложью?), которая обрушилась на нее. С руинами ее мира, где мама была… просто мамой. Любящей. Всепрощающей.
А оказалось… все было сложнее. И страшнее.
Я вас поняла. Приступаю ко второй, завершающей части истории, продолжая с момента ухода Григория.
Хлопнула входная дверь, отрезая путь Григорию и оставляя Ольгу наедине с рыдающей матерью и руинами ее прежнего мира.
Тишина, наступившая после его ухода, была еще тяжелее, чем его присутствие. Она была наполнена невысказанными словами, застарелыми обидами и страшным, звенящим непониманием. Мама все так же стояла у плиты, вжав голову в плечи, ее спина мелко дрожала. Плач стал тише, перешел в глухие, надсадные всхлипы.
Ольга подошла к ней. Осторожно, будто боясь спугнуть. Положила руку ей на плечо. Мама вздрогнула, но не отстранилась.
— Мам… — голос Ольги был хриплым, неуверенным. — Мама, посмотри на меня.
Антонина Петровна медленно повернулась. Лицо было мокрым от слез, красным, опухшим. Глаза, обычно такие ясные, смотрели с болью и… страхом? Виной?
— Оленька… прости…
— За что, мама? — Ольга заставила себя смотреть ей в глаза. — За то, что он сказал? Это… это правда? Ты… ты правда считала, что я тебя… стыжусь?
Мама отвела взгляд. Замолчала, теребя край фартука.
— Ну… было ведь… — прошептала она наконец. — Про пальто… ты тогда сказала… так зло… что оно старое… что тебе… неудобно со мной…
Вспомнилось. Да. Было. Ольге было лет семнадцать. Переходный возраст, максимализм, глупая жестокость. Она тогда действительно что-то ляпнула про мамино старое, вышедшее из моды пальто. Сказала и забыла. А мама… мама помнила. Все эти годы. Носила эту обиду в себе, как занозу.
— Мама, — Ольга взяла ее холодные, дрожащие руки в свои. — Мне было семнадцать! Я была глупой, эгоистичной девчонкой! Я… я тысячу раз пожалела об этом! Я не думала, что ты… что ты так это восприняла! Я никогда… слышишь, никогда тебя не стыдилась! Я гордилась тобой! Тем, как ты нас одна подняла!
Мама смотрела на нее сквозь слезы. Недоверие боролось в ее взгляде с надеждой.
— А Гриша… он сказал…
— А кто он такой, этот Гриша?! — Ольга почувствовала, как снова поднимается волна гнева. — Почему он здесь? Почему он решает, что мне говорить, а что нет? Он… он кто тебе?
Мама снова опустила глаза.
— Он… он из деревни нашей. Первая любовь моя… Еще до отца твоего… Он недавно объявился. Написал. Узнал, что я одна… Стал приезжать… Помогать…
Первая любовь. Объявился. Помогать. Картина начала проясняться. Этот Гриша… он не просто «земляк». Он пришел… забрать свое? Вернуть прошлое? И решил «расчистить» дорогу, настроив мать против дочери?
— Мама, — Ольга постаралась говорить как можно мягче, но твердо. — Он… он что-то обещал тебе? Говорил о… переезде? О совместной жизни?
Мама всхлипнула.
— Говорил… Что заберет меня к себе… В деревню… Что там воздух, речка… Что хватит мне тут одной куковать… Что ты… что ты меня все равно бросишь…
— Брошу?! — Ольга отшатнулась. — Мама, да как ты могла ему поверить?! После всего?! Я… я же всегда рядом! Я звоню каждый день! Я…
— А он говорил… что это все… показуха, — прошептала мама. — Что на самом деле мне от тебя только деньги нужны… Что я тебе мешаю… Что ты только и ждешь…
Ольга смотрела на мать, и ей хотелось кричать от бессилия. Этот человек… он не просто «помогал». Он методично, планомерно отравлял ее сознание. Играл на ее страхах, на ее застарелых обидах, на ее одиночестве. Он лепил из Ольги образ черствой, неблагодарной дочери, чтобы на ее фоне выглядеть «спасителем».
И мама… она поверила? Или… хотела поверить? Потому что его слова попадали на благодатную почву ее собственных, скрытых сомнений и обид?
Его слова заставили меня плакать полночи. Да. Ночь была длинной. Ольга сидела на кухне, уложив маму спать (наконец-то удалось уговорить ее выпить успокоительное). Пила холодный чай и думала.
Боль от услышанного смешивалась со странным, горьким чувством… вины? Не той вины, которую ей пытался навязать Гриша. А другой. Вины за то, что она, вся в своей работе, в своей «успешной» жизни, не замечала маминого одиночества. Не замечала ее тихой тоски. Не нашла времени просто… поговорить по душам. Не о делах. А о чувствах.
Она всегда воспринимала маму как данность. Как тыл. Как сильного человека, который со всем справится. А мама… мама тоже была просто человеком. Со своими слабостями, страхами, обидами. Которые копились годами. И которыми так легко воспользовался этот… Гриша.
Что делать дальше? Запретить ему появляться? Устроить скандал? Попытаться «раскрыть маме глаза»? Ольга понимала — это бесполезно. Силой тут ничего не решишь. Гриша был лишь симптомом. А болезнь — глубже. В их с мамой отношениях. В этой стене недомолвок, которая выросла между ними за годы.
Утром Ольга проснулась с ясным планом. Она взяла на работе несколько дней отпуска. Она не уехала. Она осталась с мамой.
Они не говорили о Грише. Они говорили… о прошлом. Ольга достала старые фотоальбомы. Они вспоминали отца. Вспоминали ее, Ольгино, детство. Мама рассказывала о своей юности, о деревне, о том Грише… Рассказывала без злобы, без прикрас. Просто — как было.
Ольга слушала. Она училась слушать. Не перебивать. Не осуждать. Не давать советов. Просто — быть рядом.
Они вместе готовили. Вместе смотрели старые фильмы. Вместе гуляли в парке — медленно, под руку.
Гриша звонил. Мама не брала трубку. Потом он приехал. Ольга сама открыла ему дверь.
— Григорий Степанович, — сказала она спокойно, глядя ему прямо в глаза. — Мама просила передать, что она вас больше не ждет. И не звоните ей, пожалуйста.
Он пытался что-то возразить, начал кричать. Ольга молча закрыла перед ним дверь. И вызвала полицию, сказав, что неизвестный ломится в квартиру. Он ушел до их приезда.
Вечером мама сидела в своем кресле у окна. Она была тихой, но какой-то… светлой.
— Спасибо, дочка, — сказала она, не оборачиваясь.
— За что, мам?
— За то, что… не бросила.
Ольга подошла, обняла ее худенькие плечи.
— Я никогда тебя не брошу, мам. Слышишь? Никогда.
Она знала, что рана, нанесенная Гришей, еще будет болеть. Что им с мамой предстоит долгий, трудный путь — заново учиться доверять друг другу, говорить о своих чувствах, прощать старые обиды.
Но ее «Путь к Себе» — он теперь включал и этот путь. Путь к своей маме. Не как к функции. А как к живому, ранимому, любящему человеку. Которого она чуть не потеряла.
Эта история — о том, как легко манипуляторы могут использовать наши застарелые обиды и страхи. О том, как важно не только говорить, но и слышать своих близких. И о том, что даже самые глубокие раны можно начать лечить — честностью, терпением и любовью.




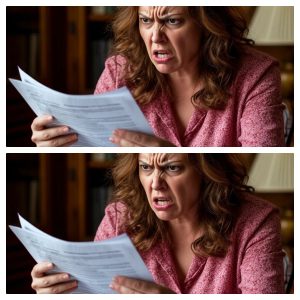




 Вместо пирожков и хлеба пеку лепешки с зеленью: получается вкуснее,а готовить проще (делюсь рецептом,которому бабушка научила)
Вместо пирожков и хлеба пеку лепешки с зеленью: получается вкуснее,а готовить проще (делюсь рецептом,которому бабушка научила)