— Витя…
Его имя, произнесённое её голосом, ударило по нему прямо в прихожей, едва он успел вставить ключ в замок. Оно было неуместным. Неправильным. Таким же неуместным, как запах её духов — сладковатый, с нотками ванили — который всё ещё висел в воздухе, хотя должен был выветриться много часов назад. Он шёл домой с одной-единственной мыслью, с одним желанием, которое вытеснило и боль, и злость, и оставило после себя лишь выжженную, гулкую пустоту. Он хотел увидеть дом мёртвым. Пустые полки в шкафу, где висели её платья. Пустую полку в ванной, заставленную её бесчисленными баночками и флаконами. Тишину. Абсолютную, стерильную тишину, в которой больше не будет её присутствия. Утром он сказал ей ясно, отчеканивая каждое слово: «К вечеру чтобы духу твоего здесь не было». И он был уверен, что она поняла.
Но квартира была прежней. Живой. В воздухе висел не только её парфюм, но и едва уловимый аромат сваренного кофе. А потом из комнаты вышла она. Яна.
Она не была заплаканной. Её глаза не были красными и опухшими. Она не стояла с чемоданом в руках, покорно ожидая своей участи. Она просто стояла посреди гостиной в домашней одежде, и её лицо было маской тщательно отрепетированного, рассчитанного до мелочей отчаяния. В нём не было паники настоящей катастрофы, только старательное изображение женщины на краю пропасти. Она сделала выверенный шаг навстречу, протягивая к нему руки, но вовремя останавливаясь, чтобы не нарушить невидимую черту.
— Витя, прости. Я была неправа, я всё понимаю, — её голос был тихим, сдавленным, но в нём не было и намёка на срыв. Это была речь, подготовленная заранее. — Умоляю, не надо развода. Давай всё обсудим. Пожалуйста. Давай просто поговорим.
Он молча слушал её, не двигаясь с места. Он смотрел, как она играет свою роль, и чувствовал, как остатки утренней боли, ещё тлевшие где-то глубоко внутри, окончательно гаснут. На их месте поднимался холод. Не злость, не обида, а тяжёлый, монолитный, ледяной гнев. Он смотрел на её лицо, в её широко распахнутые глаза и не видел там ни капли раскаяния за то, что она сделала. Она не говорила о нём. Она не говорила о его брате. Она не говорила о предательстве, совершённом в их общей постели. Она говорила о другом. И вот, наконец, она произнесла главную, ключевую фразу своего спектакля.
— Мне же совсем некуда идти…
Вот оно. Это было то самое. Вся её мольба, всё её отчаяние свелось не к потере мужа, не к разрушенной семье, а к банальной потере жилплощади. Её слова были не мольбой о спасении брака, а деловым предложением о продлении аренды, за которую она платила телом и лживыми клятвами. Осознание этого было не болезненным, а отрезвляющим. Будто его окунули в прорубь. Он смотрел на женщину, которую когда-то любил, и видел перед собой лишь хитрого, напуганного зверька, который боится остаться без тёплой норы.
Он усмехнулся. Страшно, беззвучно, одними уголками губ. Улыбка не коснулась его глаз, они оставались холодными и тяжёлыми, как два камня. Он медленно, с расстановкой, снял куртку, повесил её на вешалку. Сделал несколько шагов вглубь квартиры, останавливаясь в паре метров от неё. Воздух между ними загустел, стал плотным и вязким. Она ждала ответа, всё ещё держа на лице маску страдающей мученицы. И он ответил. Тихо. Так тихо, что эта тишина была страшнее любого крика.
— Некуда идти? — он повторил, но на этот раз не вопросительно. Его голос, до этого момента тихий, обрёл металлическую твёрдость и зазвенел от ярости, которая вырвалась наружу, как пар из перегретого котла. — Серьёзно? Это твой главный аргумент? Это всё, что ты придумала за целый день, что сидела здесь?
Он сделал ещё один шаг, и она инстинктивно отступила назад, вглубь комнаты. Её маска рассчитанного отчаяния дрогнула, на лице проступила тень настоящего страха. Она ожидала криков, упрёков, возможно, даже слёз. Но этот холодный, препарирующий гнев был ей незнаком и пугал гораздо больше.
— А как же твоя мама? — продолжил он, и в его голосе зазвучала откровенная, злая насмешка. — Её уютная двухкомнатная квартира в спальном районе? Что, места не найдётся для любимой доченьки, попавшей в беду? Или там слишком тесно для твоих представлений о комфорте? Или, может, подружки? Света, Катя, с которыми ты каждую пятницу за вином обсуждаешь, какие все мужики одинаковые? Они же тебя так любят, так поддерживают на словах. Неужели не приютят на пару ночей на надувном матрасе? Или их поддержка заканчивается там, где начинаются личные неудобства?
Каждое его слово было как пощёчина. Он не просто кричал, он методично разрушал её жалкую линию обороны, показывая ей, что прекрасно видит всю фальшь её положения. Она не была жертвой обстоятельств. Она была автором этих обстоятельств, который теперь отказывался принимать их последствия.
— Витя, перестань, при чём тут это… — залепетала она, её заготовленная речь рассыпалась под его напором. — Это была ошибка, я же говорю! Глупая, ужасная ошибка! Я сама не понимаю, как это вышло…
— Ошибка? — он рассмеялся. Короткий, лающий смех без капли веселья. — Ошибкой было купить просроченный йогурт. Ошибкой было свернуть не на ту улицу в незнакомом городе. А то, что сделала ты, — это не ошибка. Это выбор. Сознательный, холодный выбор, сделанный в моей квартире. В нашей постели.
Он замолчал, давая последним словам повиснуть в воздухе, пропитать его, стать осязаемыми. Он смотрел прямо ей в глаза, и его взгляд был таким тяжёлым, что ей захотелось спрятаться. Он видел её насквозь. Он видел не раскаивающуюся жену, а лгунью, пойманную с поличным.
— И самое мерзкое в этом даже не сам факт. Я бы, может, и это пережил. Люди — слабые существа. Но самое отвратительное, Яна, это то, с кем ты это сделала. С человеком, который жал мне руку на нашей свадьбе. Который ел за одним столом со мной. Ты хоть понимаешь, что ты сделала? Ты не просто изменила. Ты взяла и вымазала грязью всё. Мой дом. Мою семью. Меня. А теперь ты стоишь здесь и говоришь мне, что тебе некуда идти? Ты не о прощении думала, когда утром молча кивала, соглашаясь уйти. Ты весь день сидела здесь и просчитывала варианты. И поняла, что самый выгодный вариант — это остаться. Ты меня за полного идиота держишь? Ты даже не понимаешь, насколько ты сейчас жалко выглядишь.
Его слова ударили её, как град. Она пошатнулась, но устояла. На несколько мгновений на её лице промелькнуло что-то похожее на подлинное отчаяние, но оно тут же сменилось новой, последней защитной реакцией. Когда у пойманного лжеца заканчиваются оправдания, он переходит в нападение. Её голос, до этого момента умоляющий и жалкий, обрёл злые, визгливые нотки. Она сделала шаг вперёд, снова пытаясь захватить инициативу.
— Ты получаешь удовольствие, да? — выплюнула она. — Тебе нравится смотреть, как я унижаюсь? Нравится чувствовать свою власть? Ты специально доводишь меня, наслаждаешься каждой секундой! Думаешь, я не вижу? Хочешь растоптать меня, чтобы почувствовать себя мужчиной?
Это был её последний, самый отчаянный ход. Попытка перевернуть всё с ног на голову, выставить его садистом, а себя — жертвой его жестокости. В другой ситуации, возможно, это бы сработало. Он бы мог усомниться, начать копаться в себе, искать тёмные мотивы в собственном гневе. Но не сегодня. Не сейчас. Её выпад стал той самой последней каплей, тем щелчком, который сорвал с его ярости последнюю заглушку.
Он не стал отвечать на её обвинение. Он не стал ничего доказывать. Он просто посмотрел на неё, и в его взгляде не было ничего, кроме выжженной пустыни. Всё, что он к ней чувствовал — любовь, нежность, обида, боль — всё это сгорело дотла. Остался только пепел и холодное, чистое презрение.
— Ты до сих пор не поняла, — произнёс он, и его голос стал пугающе спокойным, но в этой тишине таилась вся мощь грядущего взрыва. Он говорил медленно, разделяя слова, словно вбивая гвозди в крышку её гроба. — Ты действительно думаешь, что дело в том, что ты изменила. Ты думаешь, что это просто… интрижка. Что я злюсь, как любой обманутый муж. Что меня задело моё мужское эго. Ты такая предсказуемая, Яна. Такая примитивная в своей лжи и в своих оправданиях.
Он подошёл к ней почти вплотную. Теперь она не могла отступить — позади был диван. Она оказалась в ловушке, запертая между ним и мягкой обивкой, которая ещё помнила их совместные вечера перед телевизором. Он смотрел на неё сверху вниз, и его лицо исказилось гримасой такого омерзения, что она впервые за весь вечер по-настоящему испугалась.
И тут он закричал. Не просто громко, а срывая голос, вкладывая в каждое слово всю накопившуюся за эти сутки черную, концентрированную ярость. Этот крик был физически ощутимым, он заполнил собой всё пространство квартиры, вдавил её в диванные подушки.
— Да ты у нас дома переспала с моим же братом! А теперь ты упрашиваешь меня, чтобы я не подавал на развод, потому что тебе жить негде?! Пошла вон из моей квартиры! Подстилка!
Последнее слово он не прокричал, а выплюнул ей в лицо, как яд. И оно сработало. Оно стало финальной точкой. Вся её игра, все её уловки, вся её напускная трагедия — всё это рухнуло в один момент. На её лице больше не было никаких масок. Оно стало пустым. Абсолютно пустым. Словно из неё вынули душу, оставив только оболочку. Она смотрела на него невидящими глазами, и в них не было ни слёз, ни злости, ни раскаяния. Только холодное, звенящее ничто. Осознание полного, безоговорочного и унизительного поражения. Игра была окончена. И она проиграла всё.
Она замерла, будто её ударили не словом, а чем-то твёрдым и тяжёлым. Её лицо, до этого момента бывшее полем битвы для сменяющих друг друга эмоций — отчаяния, злости, страха — теперь превратилось в неподвижную маску. Полное, всепоглощающее опустошение. Она просто стояла и смотрела в ту точку, где только что был его искажённый криком рот. Слова повисли в воздухе, пропитав его густым, едким запахом окончательного приговора, который не подлежит обжалованию.
Виктор тяжело дышал, сгорбившись, словно крик вырвал из него не только голос, но и все внутренности. Он ожидал чего угодно: ответных воплей, слёз, истерики. Но она молчала. И это её молчание, её неподвижность были последним раздражителем. Она всё ещё была здесь. В его квартире. Дышала его воздухом. Её присутствие было физической болью, занозой под кожей. И он понял, что слов больше недостаточно. Они закончились.
Он молча выпрямился и развернулся, больше не глядя на неё. Его движения стали медленными, пугающе спокойными. Он подошёл к комоду, на котором в серебряной рамке стояла их свадебная фотография. Он, улыбающийся и немного растерянный в новом костюме. Она, сияющая, с глазами, полными счастья, которое теперь казалось искусной подделкой. Он взял рамку в руки. Яна следила за ним взглядом, не двигаясь, будто загипнотизированная.
— Не надо… — прошелестел её голос, едва слышный, лишённый всякой силы.
Он не ответил. Его пальцы с деловитой точностью отогнули металлические зажимы на обратной стороне рамки. Он вынул картонную подложку и достал фотографию. На секунду он задержал на ней взгляд, но в его глазах не было ни ностальгии, ни сожаления. Только холодная брезгливость, как при взгляде на что-то мерзкое, что нужно убрать. Затем, методично и ровно, он разорвал глянцевый снимок пополам, точно по линии, разделявшей их фигуры. Потом ещё раз. И ещё. Четыре клочка бумаги беззвучно спланировали на паркет у его ног.
Она всхлипнула. Сухой, короткий звук, похожий на стон. Это был первый подлинный, не наигранный звук, который она издала за весь вечер. Но Виктор уже шёл дальше. Его взгляд упал на книжный шкаф, на толстый, обтянутый белой кожей альбом, стоявший на самом видном месте. Свадебный альбом. Он взял его, положил на журнальный столик и открыл на первой странице. Фотографии с их росписи. Счастливые лица родителей, друзья с шампанским.
— Виктор, что ты делаешь, перестань… — её голос обрёл нотки настоящей паники.
Он снова проигнорировал её. Он схватился за край плотной страницы и с силой дёрнул. Раздался отвратительный треск рвущегося картона. Он скомкал страницу вместе с приклеенными к ней фотографиями в бесформенный шар и бросил на пол, рядом с разорванным снимком. Он перевернул страницу. Следующая. Снова тот же звук. Треск. Шуршание смятой бумаги. Падение на пол. Он делал это не в ярости. Он был похож на рабочего, методично разбирающего старую постройку. Он стирал её. Стирал их общее прошлое, лист за листом, фотографию за фотографией.
— Хватит! Пожалуйста, я уйду! Я сейчас уйду! — закричала она, и в её голосе уже не было ничего, кроме животного ужаса. Это было страшнее криков, страшнее оскорблений. Это было методичное, холодное уничтожение её жизни на её же глазах.
Он остановился, его рука замерла над очередной страницей. Он медленно поднял на неё голову. Его взгляд был абсолютно пустым. Он не видел её. Он смотрел сквозь неё. И, глядя ей в глаза, он очень медленно, с демонстративной жестокостью, завершил движение и вырвал ещё один лист.
Это её сломало. Она издала короткий, сдавленный вопль, сорвалась с места, спотыкаясь, схватила свою сумку, валявшуюся на кресле. На мгновение метнулась к прихожей, будто забыв что-то, но потом лишь махнула рукой. Она выскочила за дверь, не оглядываясь. Раздался резкий щелчок замка.
И наступила тишина. Та самая, которую он так хотел. Виктор стоял посреди комнаты, окружённый обрывками их мёртвой жизни. Руки безвольно опустились. Адреналин отхлынул, оставив после себя звенящую, тяжёлую пустоту. Он добился своего. Она ушла. Но победа не принесла облегчения. Он просто стоял в мёртвой квартире, посреди бумажного мусора, и впервые за много часов почувствовал, насколько он один…





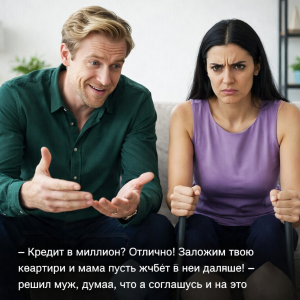



 Собака придумала гениальный способ прокормить своих щенков
Собака придумала гениальный способ прокормить своих щенков