— А чего реветь-то? Чисто формально, — Сашка потянулся за сигаретой на подоконник, не глядя на неё. — Ключи у мамы. Она будет заходить, когда удобно. Мы с ней обсудили.
Тон был такой, будто речь про воду в подъезде отключили, а не про её однокомнатную на Ленинградке. Анна выдохнула струю дыма в сторону запотевшего кухонного окна. За ним — ноябрь, серый и колючий, первые островки грязного снега у бордюров, голые ветки бьются о провода.

— «Мы с ней обсудили»? — повторила она медленно, по слогам. — Саш, а я в этом «мы» числюсь? Или я уже мебель?
Он фыркнул, чиркнул зажигалкой, прикурил. Лицо в мигающей вспышке — знакомое до каждой морщинки, и вдруг чужое. До оскомины.
— Мебель… Вечно ты драму разводишь. Квартира пустует, маме одной тяжело, ей хоть развлечение — посидеть в тишине, телевизор посмотреть. Она же тебе не враг.
— При чём тут враг? — Анна притушила свою сигарету о блюдце, там уже лежала окурком горка. — При чём тут, Саша? Это моя квартира. Я её десять лет выплачивала, как раб на галерах. Я там каждый плинтус знаю. И мне решать, кому в ней сидеть и какой телевизор смотреть.
— Твоя, твоя, — он махнул рукой, дым кольцом поплыл к потолку. — Никто не оспаривает. Регистрация твоя, бумаги твои. Я просто предложил — пусть мама ключи возьмёт, мало ли что. Полить цветы, проветрить. Тебе же легче — не надо мотаться через весь город.
— Цветы? — Анна усмехнулась сухо. — У меня там кактус, Саш. Один. И тот искусственный. Проветрить… Да ты сам там ни разу не был с прошлой зимы! Что проветривать-то, пыль?
Он помолчал, уперся взглядом в клетчатый линолеум. Потом поднял глаза, и в них мелькнуло то самое выражение — усталое, виноватое и в то же время упрямое. С ним она сталкивалась всё чаще. Когда он забывал передать её просьбу прорабу, когда давал деньги своему брату на «дело», не спросив, когда обещал приехать за ней с работы и «забивал». Мелкие песчинки, которые теперь складывались в тяжёлую, давящую груду где-то под рёбрами.
— Мама не просила, — сказал он тихо. — Я сам предложил. Её на работе сократили, пенсия смешная, она на одной картошке сидит. А гордая — попрошайничать не станет. Я думал… Ну, если она будет иногда там бывать, ей полегче. Ощущение, что не на съёмной конуре живёт, а есть… ну, запасной вариант.
— Запасной вариант, — повторила Анна, и слова показались ей безвкусными, как вата. — То есть моя квартира — это теперь «запасной вариант» для твоей мамы? Без моего ведома? Красиво.
— Да не запасной! — он повысил голос, хлопнул ладонью по столу. — Боже, как же ты всё переворачиваешь! Речь про ключи! Про то, чтобы человек не чувствовал себя выброшенным! Ты хоть раз подумала о ком-то, кроме себя?
Тишина навалилась после его слов густая, звонкая. Холодильник вздохнул и запустил мотор. За стеной кто-то включил дрель. Обычная жизнь, будничный вечер. А в их кухне будто стены сдвинулись.
— Я думала о нас, — наконец сказала Анна, и голос её сорвался на шепот. — Когда мы съезжались, мы же договаривались. У тебя — твои границы, у меня — мои. Моя квартира — это моя граница, Саша. Не общее поле, не семейный фонд. Моя. И если тебе что-то нужно с ней сделать — ты спрашиваешь. Не у мамы. У меня.
Он отвернулся, снова к окну, к ноябрьской тьме. Плечи у него были напряжены, кадык дернулся.
— Границы… — пробормотал он с презрением. — Умное слово выучила. А по-простому это называется — чёрствость. Мать у меня одна. И если ей плохо, я помогу. Чем могу. И неважно, чья там бумажка на квартиру.
— Поможешь за мой счёт, — констатировала она. — Как всегда.
Он ничего не ответил. Встал, доносил свою чашку до раковины, поставил со звоном. Потом взял куртку с вешалки.
— Куда?
— На воздух. Задохнулся тут.
Дверь захлопнулась негромко, но окончательно. Анна осталась сидеть за столом, среди чашек с окурками и тарелки с недоеденной гречкой. Руки дрожали мелко, противно. Она собрала окурки в ладонь, выбросила в ведро, потом долго стояла под краном, смывая с пальцев едкий запах табака и чего-то ещё — горького, беспомощного.
Прошло несколько дней. Всё было как обычно: работа, метро, ужин, тихие, осторожные разговоры. Про новую плитку в ванной, про счёт за электричество. Никто не вспоминал про ключи. Анна надеялась, что он одумается. Что поймёт. Что придёт и скажет: «Ладно, дура был, забираю ключи обратно». Но он не приходил. И она не спрашивала. Гордыня — страшная штука. Она разъедает изнутри быстрее, чем обида.
А потом был тот четверг. Анна задержалась на совещании, вышла на улицу уже в густых сумерках, в лицо бился мокрый снег с дождём. Домой ввалилась промокшая, усталая, мечтая о горячем душе и тишине. Но в прихожей её встретил не привычный запах пустоты и пыли, а густой, наваристый аромат жареного лука и мяса. И голос. Высокий, бодрый, режущий слух.
— Ну я же говорю, надо было сначала обжарить! А ты, как всегда, всё в кучу!
Сердце ёкнуло и провалилось куда-то в пятки. Анна скинула сапоги, прошла в кухню. За столом сидел Саша, разбирал пульт от телевизора. У плиты, спиной к ней, стояла Валентина Петровна. В её старом, вылинявшем домашнем халате, в её тапочках. На её сковородке что-то шипело.
— Добрый вечер, — сказала Анна. Голос прозвучал ровно, посторонне, будто не её.
Свекровь обернулась. Улыбка — быстрая, профессиональная, как у медсестры перед уколом.
— О, Анечка! А мы тут ужин делаем. Сашенька сказал, ты поздно, а он на макаронах сидит целый день, бедный. Решила помочь.
— Как мило, — Анна повесила пальто на стул. — Только вы что, предупреждать разучились? Или теперь это не в моде?
Валентина Петровна махнула рукой, ложкой в ней, брызги жира полетели на плиту.
— Ой, какая формальность! Я же не в гости пришла, я помочь. Ключи-то у меня есть, я заскочила, пока вас нет. Удобно же!
Анна медленно перевела взгляд на мужа. Он уткнулся в пульт, будто там была инструкция на древнекитайском.
— Саша. Какие ключи?
Он вздохнул, не глядя.
— Ну, я дал маме. На всякий случай. Она же не каждый день ходит.
— На всякий случай, — повторила Анна. В ушах зашумело. — На какой, интересно, случай? Пожар? Потоп? Или на случай, если ей захочется мою сковородку моим же маслом без моего спроса помылить?
— Анна! — резко обернулась Валентина Петровна, улыбка сползла с её лица. — Я тебе как мать могу сказать — ты совсем забыла, что такое уважение к старшим! Я не «помылить» пришла, я порядок навела! Пыль протёрла, мусор вынесла! А ты вместо спасибо…
— Я не просила вас наводить порядок в моей квартире! — перебила Анна, и голос её наконец сорвался, стал громким, резким. — И ключи я вам не давала! Это вторжение! Понимаете, простым русским словом — ВТОРЖЕНИЕ!
Саша встал, заслонил собой мать, будто от драки.
— Ань, успокойся! Ну что ты кричишь? Мама хотела как лучше!
— Всегда! Все вы хотите как лучше! — она с силой уперлась ладонями в край стола, чувствуя, как трясётся. — Только «лучше» всегда почему-то оказывается удобным лично для вас! И за мой счёт! Мой дом, мои вещи, моя жизнь — и везде вы с вашим «хотели как лучше»!
— Твой дом? — вступила Валентина Петровна, выдвигаясь из-за сына. Глаза у неё блестели обидой и злорадством одновременно. — А мой сын тут кто? Постоялец? Он с тобой живёт, значит, и его это тоже касается! И меня касается! Мы семья! Или ты нас за чужих держишь?
— Мама, не надо, — пробормотал Саша, но уже без conviction, просто по обязанности.
Анна посмотрела на них: мать — с вызовом, сын — с виноватой беспомощностью. И поняла. Поняла всё. Она здесь лишняя. Она — та самая формальность, граница, которую нужно стереть, потому что она мешает их маленькому, уютному миру, где мама всегда права, а сын — вечный должник.
— Семья, — тихо сказала она. — Да. Семья — это когда договариваются. А вы договорились за моей спиной. Значит, я в этой семье — не член. Я — ресурс.
Она вышла из кухни, прошла в спальню, закрыла дверь. Не на ключ. Просто закрыла. Сели на кровать, сжала виски руками. Из-за двери доносились приглушённые голоса: взволнованный, визгливый — матери, глухой, успокаивающий — сына. Потом звякнула посуда, захлопнулась входная дверь. Тишина.
Через какое-то время Саша зашёл. Стоял в дверном проёме.
— Ушла. Ты довольна?
Анна подняла на него глаза.
— Чего ты хочешь, Саша? Чтобы я извинилась?
— Я хочу, чтобы ты была человеком! — выпалил он. — Мама старалась, она пирог испекла! Принесла! Хотела нас порадовать! А ты её, как последнюю…
— Пирог? — Анна перебила, и вдруг ей дико захотелось смеяться. — Она испекла пирог в моей духовке? Из моих продуктов? И это должно меня тронуть?
Он смотрел на неё, и в его глазах она прочла непонимание. Искреннее, глубинное. Он действительно не понимал, в чём проблема. Для него это была просто мама, которая печёт пироги. А всё остальное — её, Анны, блажь, вредность, неумение ценить «добро».
— Ладно, — выдохнул он. — Забудь. Я больше не буду тебя просить. Всё сделаю сам.
— Что сделаешь? — спросила она, уже без интереса.
— То, что должен. Как сын.
Он развернулся и ушёл. На этот раз — в гостиную, к телевизору. Анна осталась сидеть в темноте, слушая, как за стеной заиграли смехотворные позывные какого-то ток-шоу. И думала об одном: о ключах. О тех самых ключах от её прошлой жизни, которые теперь болтались в сумочке у Валентины Петровны. Как символ. Как пропуск. На что? Она боялась додумать.
Следующую субботу Анна объявила «днём отключения». Выключила телефон, отключила домофон, сказала Саше, что едет к подруге помогать с переездом. Враньё было плоским, немудрёным, но он только кивнул, уткнувшись в ноутбук — «ну ладно». Ей было всё равно, поверил он или нет.
Она села на автобус и поехала. Туда. На Ленинградку, в свою «однушку» на четвёртом этаже панельной девятиэтажки. Сердце стучало неровно, предательски, будто она шла не в свою квартиру, а на свидание с любовником или на разборку с бандитами. В лифте пахло чужими духами и мокрой шерстью. Она достала свой ключ, старый, потёртый, с брелоком в виде слоника. Вставила в замок. Дверь открылась легко, без скрипа.
И сразу — запах. Не её запах. Не запах замкнутого пространства, пыли и старого паркета. А запах другого жилья: какого-то сладкого освежителя воздуха, варёной картошки и… чужих духов. Дешёвых, цветочных. Анна замерла в прихожей. На полу стояли чужие ботинки — женские, на низком каблуке, стоптанные. На её вешалке, которую она сама выбирала на «Икеевском» распродаже, висела не её куртка. Синяя, пуховик, «Зара».
Из глубины квартиры, из кухни, донёсся звук — лёгкий кашель, затем голос, молодой, немножко сиплый:
— Лен, соль точно была в шкафчике? Я не найду.
Анна не двигалась. Казалось, даже сердце остановилось. Потом сделала шаг. Ещё. Пол скрипнул под половицей, как всегда. Из кухни выглянула девушка. Лет двадцати пяти, не больше. В спортивных штанах и большой футболке, волосы собраны в конский хвост. В руке — кружка с надписью «I NY». Увидев Анну, она вздрогнула, глаза округлились.
— Ой! Здравствуйте… А вы… к кому?
— Я — хозяйка, — сказала Анна, и её собственный голос показался ей доносящимся издалека. — А вы кто?
Лицо девушки сначала выразило полное недоумение, затем медленно, будто сползая, начало бледнеть.
— Хозяйка?.. Но мне сказали… Мне сдала квартиру женщина, Валентина Петровна. Она сказала, что это её невесткина квартира, но невестка уехала… надолго. За границу. А она, как родственница, имеет право сдать. Я договор подписала, деньги за два месяца вперёд…
Девушка говорила быстро, путано, голос дрожал. Анна слушала, и внутри у неё всё медленно и чётко складывалось, как пазл, картинка которого отвратительна и очевидна. Валентина Петровна. Ключи. «Семья». «Как лучше». И эта девочка с испуганными глазами и кружкой про Нью-Йорк.
— Покажите договор, — попросила Анна тихо.
Девушка кивнула, метнулась в комнату, вернулась с синей папкой. Анна открыла. Лист А4, распечатка. «Договор найма жилого помещения». Адрес. Цифры. В графе «Наймодатель» — её фамилия, имя, отчество. Написано от руки. И подпись. Кривая, неумелая, но старающаяся быть размашистой. Не её. Даже близко не её. Свидетели — пусто. Данные паспорта Наймодателя — тоже пусто. Девушка (её звали Катя, как выяснилось) явно не шибко разбиралась в юридических тонкостях. Или очень торопилась съехать от предыдущих хозяев.
Анна закрыла папку, вернула.
— Вас обманули, Катя. Меня зовут Анна. Это моя квартира. Я никуда не уезжала. И я не давала никому полномочий её сдавать. Эта бумага — ничего не стоит. Фальшивка.
У девушки на глазах выступили слёзы. Она бессильно опустилась на табурет в прихожей.
— Я… я всё свои деньги отдала. Я искала три месяца! Мне сказали, что это срочно, по знакомству, поэтому дёшево… Я им… я доверилась…
— Знаю, — сказала Анна, и вдруг её накрыла волна страшной, леденящей усталости. — Я знаю, как они умеют «по-семейному» договариваться. Вы не виноваты. Но жить здесь вы не можете.
— Куда я пойду? — простонала Катя. — У меня работы здесь, вставать в шесть…
Анна посмотрела на неё — молодую, растерянную, обманутую. Такую же, в сущности, пешку в их семейной игре. Только пешку с пустым кошельком и чемоданом тряпья в углу комнаты.
— Дайте мне два дня, — сказала Анна твёрдо. — Два дня, чтобы решить этот вопрос. Я верну вам деньги. Все. И помогу найти другое. Не по знакомству. По нормальному договору.
Она вышла на улицу. Морозец пробирал под тонкое пальто. Она шла, не замечая направления, просто шла, и в голове стучал один и тот же вопрос: «Как? Как она могла?» А потом другой, более страшный: «А Саша? Он знал?»
И ответ приходил сам собой. Конечно, знал. Или догадывался. Или просто предпочёл не думать, во что выльется его «помощь маме». Он же «просто дал ключи». Для цветов. Для проветривания. А уж что мама с этими ключами сделает — её дело. Он в стороне.
Она вызвала такси. Сказала адрес — дом Валентины Петровны. Не его. Её. Всю дорогу молчала, смотрела на проплывающие огни. Злости не было. Была пустота. И холодное, ясное решение.
Ей открыла сама Валентина Петровна. В том же халате, с мокрыми от мытья посуды руками. Увидев Анну, её лицо на мгновение исказилось чем-то вроде страха, но тут же натянулась привычная маска бодрости.
— Анечка? Нежданно-негаданно. Саши нет, он…
— Я к вам, — перебила Анна, шагнула в прихожую, не снимая обуви. — Зачем вы сдали мою квартиру?
Валентина Петровна отступила на шаг, губы поджали.
— Ой, ты уже узнала? Ну и что тут такого? Пустует же добро. Я подумала — и тебе помощь (я же часть денег хотела тебе отдать!), и человеку крыша над головой. Девчонка одна, бедная…
— Вы подделали мою подпись, — голос Анны был ровным, как лезвие. — Вы вписали мои данные в договор. Это подлог. Уголовная статья.
— Какая статья?! — всплеснула руками свекровь, но голос её дрогнул. — Мы же свои! Я же мать твоего мужа! Какие тут могут быть статьи! Ты с ума сошла!
— Свои на этом не играют, — сказала Анна. — Свои спрашивают. Свои не воруют. Вы украли. Мою квартиру. Моё доверие. И подставили под удар ту девушку. Она заплатила вам, да? Деньги где?
— Какие тебе ещё деньги! — зашипела Валентина Петровна, её бодрость наконец лопнула, обнажив злобу и страх. — Ты жадная! Тебе всё мало! У тебя две квартиры, а у меня одна съёмная конура! Я должна была что-то сделать! Сашенька меня не бросит, он меня поймёт! Он знает, как мне тяжело!
— Знает, — кивнула Анна. — Поэтому и дал ключи. Зная, что вы способны на всё. Зная меня. Зная, что я взорвусь. Он просто предпочёл не знать подробностей. Удобная позиция.
Она повернулась к выходу.
— Слушайте меня внимательно. Завтра к вечеру вы возвращаете Кате все деньги. До копейки. И объясняете ей, что вы — мошенница. Если денег нет — продавайте свою шубу, телевизор, что угодно. Послезавтра я подаю заявление. И да, Валентина Петровна. Передайте своему Сашеньке, что наша очередь разговаривать — следующая. И это будет наш последний разговор.
Она вышла, прикрыв дверь так тихо, что это прозвучало громче любого хлопка.
Следующие сорок восемь часов прошли в каком-то сюрреалистичном тумане. Она ночевала у той самой подруги, с которой якобы помогала с переездом. Марина, умная, циничная Марина, выслушала всё, налила коньяку и сказала: «Бросай его. Сразу. Сегодня. Или ты ждёшь, когда они твою почку продадут?» Анна молча пила, жгла горло, и внутри всё немело.
Саша звонил. Сначала каждые полчаса. Потем реже. СМС: «Ань, давай поговорим», «Мама всё объяснит», «Ты не поняла ситуацию», «Я же люблю тебя». Она читала и удаляла. Любовь. Смешное слово. Оно теперь пахло жареным луком, чужими духами и бумагой с фальшивой подписью.
Встреча с Катей и Валентиной Петровной состоялась в той же «однушке». Свекровь пришла, похудевшая за два дня, серая, с толстой коричневой папкой в руках. Молча, не глядя ни на кого, отсчитала пачку купюр. Катя, всё ещё испуганная, пересчитала, кивнула Анне.
— Простите меня, — вдруг выдавила Валентина Петровна, глядя в пол. — Я не хотела… Я не думала…
— Выйдите, — попросила Анна. — Мне нужно поговорить с Катей наедине.
Та ушла, пошатываясь. Анна помогла Кате найти вариант через агентство — малютку-студию, но легально, с договором. Девушка уезжала на такси, увозя свои чемоданы, и на прощанье обняла Анну, заплакав: «Спасибо. Вы… вы не такая, как они».
Вечером пришёл он. Не звонил в дверь — видимо, дождался, когда Марина уйдёт. Стоял на лестничной площадке, в той же куртке, помятой. Без цветов. Лицо — измождённое, с тёмными кругами под глазами.
— Пусти, — сказал он хрипло.
Она впустила. Не из жалости. Из желания поставить точку.
Он прошёл в кухню, сел на тот же стул, с которого всё началось. Смотрел на стол.
— Мама всё рассказала.
— Поздравляю, — сказала Анна, оставаясь стоять. — И что?
— Она не хотела зла. Ей было страшно. За будущее. Она видела, как мы с тобой… — он запнулся.
— Как мы с тобою что? — спокойно спросила Анна. — Ругаемся? Так это из-за неё в основном и ругаемся, Саш. Из-за её «помощи», её совков, её вечного присутствия там, где её не просят.
— Она же одна! — выкрикнул он, ударив кулаком по столу. — Одна, стареющая, без денег! Что я должен был делать?! Бросить её?!
— Никто не просил бросать! — наконец сорвалась и Анна. — Просили уважать! Моё! Мою жизнь! Моё пространство! Но для тебя «уважать» — это значит «позволять ей всё». За мой счёт! Ты не муж мне, Саша. Ты — буфер. Между мной и твоей матерью. И ты всегда, всегда выбираешь её сторону. Потому что с нею проще. Она требует, а ты подчиняешься. А я… я почему-то должна понимать, терпеть и платить. Квартирой. Нервами. Собой.
Он поднял на неё глаза. В них была мука, растерянность, злость.
— Я не выбирал! Я пытался угодить всем!
— Угодить всем нельзя, — холодно сказала она. — Ты выбрал. Каждый раз, когда закрывал рот, когда делал вид, что не замечаешь, когда давал ключи, не спрашивая. Ты выбирал её комфорт. В ущерб моему. И нашему. Кончилось. Я больше не хочу быть в этой треугольной игре, где я всегда проигрывающая.
Он долго молчал. Потом прошептал:
— И что теперь? Развод?
— Да, — ответила Анна. — Развод. Я уже поговорила с юристом. Квартира твоя — твоя. Моя — моя. Никаких общих дел, никаких «семейных фондов». Чистая математика.
— А мы? — он посмотрел на неё, и в его взгляде мелькнуло что-то детское, беспомощное. — Три года. Всё, что было… Это просто вычеркнуть?
— Не я вычеркнула, Саша. Вы с мамой. Когда превратили мою жизнь в счётную книжку для ваших манипуляций. Любви там, где нет уважения, не бывает. Кончилась.
Он встал. Постоял, пошатываясь. Потом кивнул, коротко, будто отрубил.
— Ладно. Как скажешь.
И ушёл. На этот раз — навсегда.
Процедура была быстрой и негромкой. Как вынос покойника. Раздел имущества, подписи, печати. Валентина Петровна пыталась звонить разок — голос в трубке был плаксивый, виноватый: «Анечка, давай всё вернём как было…». Анна положила трубку. И сменила номер.
Прошла зима. Длинная, серая. Анна вернулась в свою «однушку». Сменила замки. Выбросила старые шторы, купила новые. Покрасила стены в цвет, который он ненавидел — холодный беж. Работала много. Иногда по вечерам пила вино с Мариной, смеялась над её едкими шутками. Иногда просто сидела у окна и смотрела, как темнеет. Было пусто. Но была тишина. Не враждебная, не тягостная. Просто тишина. Её тишина.
Как-то весной, в марте, когда снег уже осел чёрными корками, а воздух пахл талым и надеждой, она разбирала старую коробку с безделушками. На дне нашла фотографию — они с Сашей, три года назад, на море. Загорелые, смеющиеся, он обнимает её за плечи. Она посмотрела на эти лица, на эту улыбку, которая тогда казалась навеки. Потом перевернула снимок и разорвала пополам. Не со злости. С лёгкостью.
Она вышла на балкон. Солнце пригревало по-настоящему. Где-то капало с крыш, кто-то кричал детям во дворе: «Не лезь в лужу!». Жизнь. Обычная, шумная, неидеальная. Но её.
Она глубоко вдохнула воздух, пахнущий весной и свободой. И впервые за долгое время почувствовала не тяжесть утраты, а лёгкость обретения. Себя.






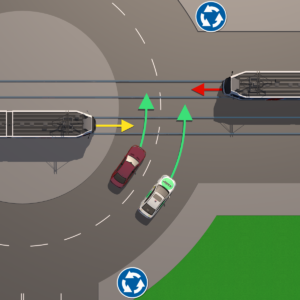


 Я не потерплю, чтобы ты запрещала моей матери жить с нами — заявил муж
Я не потерплю, чтобы ты запрещала моей матери жить с нами — заявил муж