— Ну что, твои там решили, когда переезжают? Насчёт квартиры что-нибудь говорили?
Голос Глеба донёсся с дивана, ленивый и в то же время полный плохо скрытого, зудящего нетерпения. Он не оторвал взгляда от телефона, синеватый свет которого отбрасывал хищные блики на его лицо. Яна молча закрыла входную дверь, и звук щёлкнувшего замка показался в этой вязкой вечерней тишине оглушительным. Она стянула с плеча сумку, которая сегодня ощущалась неподъёмной, и поставила её на пол. Весь день она мечтала только об одном: войти в их маленькую, но уютную квартиру, скинуть туфли и просто посидеть в тишине пять минут. Но Глеб, казалось, караулил её у самого порога, готовый завести свою привычную шарманку.
Она прошла в комнату, устало опустившись в старое, но любимое кресло напротив него. Он даже не поднял головы. Только пальцы быстрее забегали по экрану.
— Привет, Глеб.
— Ага, привет, — бросил он, не отрываясь. — Так что там?
Раздражение, тонкое, как иголка, кольнуло где-то под рёбрами, но Яна сдержалась. Она знала эту его манеру. Он выжидал, создавая иллюзию незначительности вопроса, хотя на самом деле это было единственное, что его волновало последние два месяца, с тех пор как её родители затеяли строительство загородного дома.
— Они её продадут, скорее всего, — спокойно ответила она, расстёгивая тугую пуговицу на манжете блузки. — Им деньги нужны будут на отделку, на мебель, на всё остальное. Сад ещё разбить хотят. Это большие расходы.
Глеб наконец оторвался от телефона. Он не посмотрел на неё, его взгляд упёрся в стену напротив, словно он прикидывал там что-то в уме. Он фыркнул. Короткий, презрительный звук, который значил гораздо больше, чем любые слова.
— Продадут?
— Продадут. Нам она зачем? У нас своя есть.
Это прозвучало как констатация очевидного факта, но Глеб воспринял это как личное оскорбление. Он отложил телефон и сел, подавшись вперёд. Его расслабленная поза мгновенно сменилась хищной, напряжённой.
— Своя? — переспросил он, и в голосе его прорезался металл. — Ты вот это называешь «своя»? Однушка в спальнике, где кухня размером с мой рабочий стол? Яна, это не жизнь, это временное убежище. Клетка. А там — трёшка. В центре. С высокими потолками. Ты просто не понимаешь масштаба.
Он говорил так, будто открывал ей, неразумной, какую-то великую истину. Будто она не знала, какая квартира у её родителей. Будто она не провела там всё своё детство. Его слова не задевали, они вызывали глухую, нарастающую тоску. Он смотрел на их квартиру, в которой она сама клеила обои, выбирала этот диван и это кресло, как на недоразумение, которое нужно как можно скорее исправить за чужой счёт.
— Глеб, это их квартира. Их. Они в ней всю жизнь прожили. Они сами решат, что с ней делать. И им действительно нужны будут деньги, — повторила она, стараясь, чтобы её голос звучал как можно ровнее.
— Да брось ты, — он отмахнулся, словно она говорила о какой-то мелочи, о паре тысяч, а не о целой квартире. — Деньги… Что им, не хватит? Дачу свою старую продадут, если уж так прижмёт. У отца накопления есть, я знаю. Они просто жмутся. А помочь единственной дочери нормально устроиться — это, по-твоему, неважно?
И вот в этот момент Яна почувствовала, как иголка раздражения превратилась в раскалённый гвоздь. «Продадут дачу», «жмутся». Он говорил о её родителях так, будто они были какими-то посторонними людьми, обязанными обеспечивать его комфортное существование. Он не думал о том, что эта дача — место, где её отец проводил каждые выходные, где росла яблоня, посаженная в год её рождения. Он видел во всём этом лишь активы. Ресурсы, которые можно и нужно пустить в дело. В его дело.
Яна молчала, глядя на него. Она смотрела, как уверенность и наглость расплываются по его лицу, как жирное пятно по бумаге. Он действительно не видел ничего зазорного в своих словах. Для него её родители, их жизнь, их планы были всего лишь переменными в уравнении, которое должно было решиться в его пользу. Её молчание он, видимо, принял за знак того, что она колеблется, что её оборона дала трещину и теперь нужно лишь усилить нажим.
— Ты должна с ними поговорить, Яна, — произнёс он, вставая с дивана. Его голос обрёл поучающие, менторские нотки. — Просто сядь и объясни им по-человечески. Что мы молодая семья. Что нам нужно развиваться, а не прозябать в этой конуре. Это же элементарно. Они твои родители, они должны желать тебе добра. А это — добро в чистом виде. Наш шанс.
Он начал ходить по комнате, маленькой, заставленной мебелью, и его шаги казались непропорционально громкими и властными. Он был похож на хищника, который вымеряет размеры своей клетки перед прыжком.
— Ты просто подойди к этому с умом. Надави на жалость, если понадобится. Скажи, что мы тут концы с концами еле сводим, что я на работе убиваюсь за копейки. Это же будет правильно. Для нас.
Вот это слово — «надавить» — стало последней каплей. Оно было уродливым, липким, оно пахло шантажом и манипуляцией. И в этот момент плотина прорвалась. Спокойствие, которое она так старательно удерживала, разлетелось на тысячи осколков. Яна резко встала, и старое кресло под ней скрипнуло, как от боли.
— С чего ты взял, что когда мои родители достроят дом, то свою квартиру они отдадут нам? У нас своя есть! Или ты уже начал думать, как продашь её и с работы уволишься?
Вопрос вырвался хлёстко, как удар кнута. Он был заряжен всем тем раздражением, что копилось в ней неделями. Глеб замер на полушаге и обернулся. Его лицо исказилось, но не от стыда или растерянности. На нём проступило искреннее, неподдельное изумление, смешанное со злобой. Как будто она только что ляпнула несусветную глупость.
Он усмехнулся, но смех вышел кривым и злым.
— А что в этом такого? Да, я думал об этом! И знаешь что? Это гениальный план!
Он снова подался вперёд, и теперь в его глазах горел фанатичный, нездоровый огонь. Он перестал быть просто ленивым мужем, он превратился в пророка новой, лёгкой жизни, которую ему были обязаны предоставить.
— Послушай, просто послушай! — он вскинул руки, словно дирижируя невидимым оркестром. — Мы её сдаём. Трёшку в центре, ты представляешь, какие это деньги? Это больше, чем я сейчас получаю, в два раза! Я сразу же увольняюсь с этой грёбаной работы, где меня ни во что не ставят. Мы закрываем твой дурацкий кредит на холодильник. И всё. Мы живём. Просто живём, Яна! Ездим отдыхать не раз в три года в Турцию, а когда захотим и куда захотим. Я смогу наконец заняться тем, что мне интересно, а не вкалывать на дядю.
Он говорил быстро, сбивчиво, захлёбываясь собственным восторгом. Он рисовал эту картину так ярко и подробно, что было очевидно — он прокручивал её в голове сотни раз, лёжа на этом самом диване. В его мире не было ни её родителей, ни их труда, ни их права на собственную жизнь. Была только квартира — волшебный артефакт, манна небесная, которая должна была упасть ему в руки и решить все его проблемы.
Яна смотрела на него и не узнавала. Вернее, она наконец-то увидела его настоящего, без ретуши и бытовых компромиссов. Увидела инфантильного, эгоистичного мужчину, который мечтал не о том, чтобы чего-то добиться, а о том, чтобы ему что-то дали. Просто так. Потому что он этого хочет. Весь его мир, все его амбиции сводились к одной простой идее — присосаться к чужому ресурсу и жить за его счёт.
— А если продать… — продолжал он мечтательно, уже не обращая на неё внимания, полностью погрузившись в свою фантазию. — Продать, купить сразу хорошую машину, не это ведро наше. А на остальные деньги можно своё дело открыть. Без рисков, без кредитов…
Он говорил, а Яна чувствовала, как внутри неё что-то обрывается. Толстый, надёжный канат, на котором держались их отношения, с противным скрипом лопался, волокно за волокном.
Слова Глеба о «своём деле» повисли в сжатом воздухе комнаты. Он произнёс их с придыханием, как заклинание, которое должно было окончательно убедить и её, и, кажется, самого себя. Он всё ещё стоял посреди комнаты, окрылённый собственными фантазиями, и ждал от неё восхищения его деловой хваткой и широтой замысла. Но Яна больше не испытывала ни гнева, ни обиды. Все эти бурные чувства схлынули, оставив после себя лишь звенящую пустоту и холодную, кристаллическую ясность. Словно она много лет смотрела на мир через мутное стекло, и вот сейчас его вынули, и она впервые увидела всё в истинном, неприглядном свете.
Она медленно, без резких движений, села обратно в кресло. Этот жест был полон такого спокойного превосходства, что Глеб инстинктивно сжался, почувствовав, как его эйфория начинает испаряться.
— Своё дело? — повторила она. Её голос был ровным и тихим, но в этой тишине таилась угроза. — Какое, Глеб? Расскажи мне. Мне очень интересно послушать про твои планы.
Он моргнул, сбитый с толку её тоном.
— Ну… Какая разница? Что-нибудь прибыльное. В сфере услуг, может. Или IT. Сейчас столько возможностей…
— А, IT, — кивнула Яна, и в уголке её губ промелькнула тень усмешки, лишённой всякого веселья. — Это как тот твой «стартап», для которого ты полгода назад купил блокнот, чтобы записывать гениальные идеи? Я его недавно нашла за диваном. Там на первой странице написано «Название» и больше ничего. Идея оказалась настолько гениальной, что даже не обрела имени?
Глеб дёрнулся, как от пощёчины.
— Не утрируй. Я просто искал правильную концепцию.
— Или как твой блог о путешествиях? — продолжила она тем же бесстрастным тоном, методично перебирая его «проекты». — Ты снял одно пятнадцатиминутное видео о поездке в Суздаль, монтировал его три недели, а потом заявил, что это неблагодарный труд и публика ещё не доросла до твоего контента.
— Это требует серьёзных вложений в технику! А у нас их не было! — огрызнулся он, его голос начал срываться на визгливые ноты.
— Конечно. Как и вложений в твою карьеру криптоинвестора. Ты был им ровно две недели. Прочитал три статьи в интернете, вложил пять тысяч рублей, которые я тебе дала на новые ботинки, и когда всё рухнуло, ты объявил, что весь этот ваш биткоин — глобальный обман. Ты не ищешь возможности, Глеб. Ты ищешь оправдания.
Каждое её слово было маленьким, идеально отточенным скальпелем, который вскрывал его натуру слой за слоем, обнажая то, что лежало в самой основе. Не амбиции. А всепоглощающую, парализующую лень.
Его лицо побагровело. Уверенность испарилась без следа, оставив после себя только бессильную злобу.
— Да что ты понимаешь! — закричал он. — Я пытаюсь вырваться из этой нищеты, для нас же стараюсь! А ты меня только критикуешь! Вместо того чтобы поддержать, помочь поговорить со своими! Они же жлобы, твои родители! Сидят на этой золотой жиле и давятся! Неужели им для родной дочери жалко? Ты вообще за кого — за них или за нашу семью?!
Он выкрикнул этот последний вопрос как свой главный козырь, как ультиматум, который должен был немедленно поставить её на место. Но Яна даже не дрогнула. Она смотрела на него снизу вверх из своего кресла, и во взгляде её не было ничего, кроме холодного, почти научного интереса.
— Семью? — переспросила она так тихо, что ему пришлось напрячься, чтобы расслышать. — Глеб, ты не понимаешь. Дело ведь совсем не в квартире. И не в моих родителях. Дело в тебе. Ты хочешь эту квартиру не для «нас». Ты хочешь её для себя. Потому что это единственный в твоей вселенной способ получить то, о чём ты мечтаешь, не прикладывая для этого абсолютно никаких усилий. Тебе не нужна помощь, тебе нужна подачка. Огромная, жирная подачка, которая позволит тебе до конца жизни лежать на диване и рассказывать всем, какой ты успешный бизнесмен. Эта квартира для тебя — не шанс. Это костыль. И ты готов заставить меня ползать на коленях перед родителями, лишь бы его заполучить.
Глеб застыл, глядя на неё так, будто она ударила его ножом. Не в спину, а прямо в грудь, медленно и с улыбкой. Её спокойствие пугало его куда больше, чем крик. В крике есть страсть, есть эмоции, с которыми можно работать — отвечать тем же, давить, обвинять. Но эта ледяная, препарирующая тишина выбивала у него почву из-под ног. Он сглотнул, чувствуя, как во рту пересохло. Его мир, такой понятный и уютный в его фантазиях, рушился на глазах.
— Значит, вот так, да? — прохрипел он, отступая на шаг, словно её слова были физической силой, отталкивающей его назад. — Ты просто всё обесценила. Взяла и растоптала. Мои мечты, наши планы… Всё. Только потому, что тебе лень поднять задницу и поговорить с родителями. Ты выбираешь их, а не меня. Их комфорт тебе важнее нашего будущего.
Он попытался вложить в свои слова всю возможную трагичность, выставить себя жертвой её предательства. Это был его последний, самый отчаянный приём — взывать к чувству вины. Но он стрелял в пустоту. На лице Яны не дрогнул ни один мускул.
— Наше будущее? — она медленно поднялась с кресла. Теперь они стояли друг напротив друга, и она, хоть и была ниже ростом, смотрела на него сверху вниз. — Глеб, давай я расскажу тебе про будущее. Про твоё будущее. Потому что «нашего» больше не существует. Ты только что сам сжёг его дотла в своих мечтах о лёгких деньгах.
Она сделала паузу, давая словам впитаться в воздух, в обивку дивана, в самого Глеба.
— Ты останешься здесь. В этой самой квартире, которую ты так презираешь. Ты будешь просыпаться в этой комнате и видеть этот потолок, который ты обещал побелить ещё прошлой весной. Ты будешь ходить на свою работу, которую ненавидишь, потому что для поиска новой нужно прилагать усилия. Составлять резюме, ходить на собеседования, доказывать, что ты чего-то стоишь. А это слишком сложно. Гораздо проще прийти вечером домой, упасть на этот диван и мечтать.
Её голос не повышался. Он был ровным и монотонным, как у диктора, зачитывающего приговор.
— Ты будешь мечтать о том, как мог бы жить, если бы только тебе дали шанс. Если бы мои родители не оказались такими жмотами. Если бы я сама была посговорчивее. Ты найдёшь сотни причин, почему у тебя ничего не получилось. И ни одна из этих причин не будет связана с тобой. А по выходным ты будешь смотреть на дорогие машины за окном и рассказывать самому себе, что ты мог бы иметь такую же, и даже лучше, если бы только…
Она подошла к комоду, взяла свою сумку, перекинула ремень через плечо. Взяла с тарелочки ключи. Их звяканье было единственным резким звуком в комнате.
— Так вот, слушай сюда, Глеб. Мои родители тебе ничего не должны. И я тоже. Можешь свои планы свернуть в трубочку и засунуть в тот самый блокнот для гениальных идей. Пусть лежат там вместе.
Он смотрел на неё, и лицо его было белым, как полотно. Он открывал и закрывал рот, но звука не было. Он наконец понял. Понял, что это не очередной скандал. Это конец. Полный, безоговорочный.
— А что такого? — вдруг выдавил он из себя жалкий, беспомощный лепет, повторяя свою же фразу, которая и начала этот разговор. — Я же просто… для нас хотел…
Яна рассмеялась. Холодным, коротким смешком, в котором не было и грамма веселья. Это был звук закрывающейся железной двери.
— Нас? Нет, Глеб. Не нас. А тебе. Чтобы ты жил нормально. За их счёт. И за мой. Разговор окончен. Навсегда.
Она повернулась и пошла к выходу. Не быстро и не медленно. Просто пошла, как уходят из места, где больше нечего делать. Он остался стоять посреди комнаты, в центре своего рухнувшего карточного домика, освещённый одиноким светом экрана забытого на диване телефона. Она не хлопнула дверью. Она просто прикрыла её за собой. И щелчок замка с той стороны прозвучал для Глеба громче любого взрыва…




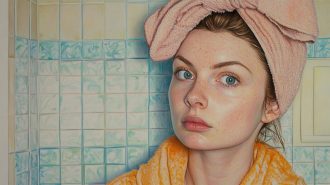




 – Ты что, stRах п0теряла?! Мама просит взять для нее кредит, а ты ей отказываешь?! – гаркнул муж
– Ты что, stRах п0теряла?! Мама просит взять для нее кредит, а ты ей отказываешь?! – гаркнул муж